Художка
31 января, 2018
АВТОР: Софья Маленьких
Мне очень повезло в жизни. Очень…

Это был совершенно неожиданный, бесконечно щедрый и, пожалуй, не вполне заслуженный подарок… До сих пор для меня — одно из самых светлых, самых важных, самых серьезных переживаний в жизни — моя художка… Место моего рождения и полета, место, где я научилась видеть и сравнивать, работать и радоваться, открывать новые миры и обретать друзей…
Пожалуй, огромное, удивительно свалившееся на меня счастье я ощутила, как только попала туда, когда пришла на вступительный экзамен. Самое первое, еще смутное, едва уловимое воспоминание — чувство, охватившее здесь сразу — это мой дом, мой мир. И блаженное счастье. Каждой клеточкой тела, в каждом вздохе и выдохе, должно быть так ощущают себя в раю…
Помню, в течении последовавших 7 лет обучения и нескольких разовых, уже почти случайных заходов после окончания — в любую секунду пребывания там я остро проживала это ощущение блаженного счастья, парения, правильности мира, зримо ощутимого родства и радости. Надо было лишь замереть на секундочку в тишине и так посмотреть на высокий потолок в классах, освещенный безграничным небом, льющимся из окон, а в пасмурную погоду или зимой, когда вечереть начинало уже в три, почти сразу как мы приходили на занятия, под потолком, подвешенные на железных прутьях зажигались длинные лампы дневного света и тогда коричневые половицы пола так весело и задорно отражали его…

Потолок этот в нашей художественной школе не везде был высок, и снижался в сторону коридора, так что учительская, туалеты и кабинеты преподавателей находились уже в чердачных каморках, где окна оказывались в полу, а уже у дальней стены невозможно было стоять в полный рост.
Помню, это придавало какое-то особенное очарование всему — заглядываешь, например, в учительскую, там все так серьёзно и по-настоящему — коричневые столы, заваленные какими-то папками, красноватый, безнадёжно официальный телефон, все вроде бы как в обычной школе, только окно растет из пола и к нему не согнувшись подойти нельзя, и видны из него крыши, вороны, ветки деревьев и, стирая первое обманчивое впечатление, сразу же охватывает заглянувшего в учительскую необычайная радость — нет, нет, это не школа, это твой дом родной, твоя художка!
Так же потолок снижался и в умывальных комнатах, маленьких и всегда почему-то темных помещениях (может, мы ленились зажигать там свет? может, не хотелось портить таинственное ощущение каморки, кладовки колдунов из сказки, или светом я боялась разогнать тот приятный запах воды и краски, таящийся во всех углах этих маленьких комнаток, по стенам которых шли деревянные полки, заставленные сверху до низу разнокалиберными стеклянными банками, безнадежно заляпанными многими поколениями краски по краям, эти банки с таким оглушительным взрывом падали на пол и разлетались в мелкие стеклянные брызги, если кто-нибудь случайно сбивал их с шаткой табуретки…)
Табуретки в большинстве своем тоже почему-то были испещрены пятнами намертво въевшейся в них краски, в том числе и масляной, густыми мазками и полосками лежащей на их когда-то гладкой поверхности, все они как на подбор оказывались немного колченогие, с маленькими пластмассовыми наконечниками на железных изогнутых опорах у самого пола; иногда у меня закрадывалось подозрение, что именно благодаря этим круглым, неровным наконечникам, а может из-за их частичного отсутствия эти табуретки и шатались все время, то весело, то грустно, заставляя проходивших мимо них осторожно изгибаться и задерживать дыхание…
Наша художка прилепилась ласточкиным гнездом под крышей 6-ти этажного, чисто подтянутого и благополучного дома, внизу которого располагался длинный и вполне респектабельный магазин «Военторг». Чтобы попасть к нам, надо было совершить маленький подвиг и взобраться по лестницы на самый верх, потому как лифта в доме не предполагалось. Как я сейчас понимаю, наша дорога вверх напоминала немного подъем по бесконечным ступеням в какой-нибудь монастырь, дорога паломников к священному месту, и мы поднимались и спускались стайками и поодиночке, то задумчиво бредя, то скача как бешеные через три ступеньки, лупя по перилам первым попавшимся под руку предметом или распевая песни, а то и попросту завывая по-волчьи…
Понимаю я теперь также, что подобные занятия многочисленных детских орд не могли оставить равнодушными жильцов внешне столь респектабельного дома, так что однажды даже поставлены были внизу железные двери и по странному стечению обстоятельств никому в школе не сообщен их код, и кому-то из учителей пришлось пару дней неотрывно дежурить внизу, чтобы открывать вход своим. А своих было много…
Иногда, так же, видимо, чтобы не испытывать терпения проживавших под нами, менялся вход в школу — подняться к нам можно было из двух крайних подъездов, и они чередовались по нескольку раз в году, так что один вход оставался запасным и наглухо запертым изнутри, рядом с этой закрытой дверью появлялось тихое полутаинственное пространство, где так здорово было собраться и обсудить с кем-нибудь из девчонок сердечные планы, новый костюм преподавателя соседнего класса или времяпрепровождения мальчиков из нашей группы…
Помню, было такое ощущение незыблемости и стабильности — небо могло упасть на землю, пройти цунами, землетрясения, хляби небесные разверзнуться и геенна огненная возгореть, но в три часа дня я должна быть в художке. (В моей обыкновенной ненавистной школе часа на 2 обычно принято было назначать всякие субботники или уборки кабинета, и уходить иногда приходилось с боем, но возможность пропустить художку даже в голову не могла прийти.)
Занятия у нас были 4 дня в неделю, но мы умудрялись застревать там еще и на пятый, и не приходили в выходные только лишь, пожалуй, потому что в самой художке никого не было, и у всех был выходной. Кажется, это началось со 2 курса, когда мы уговорили преподов пускать нас на дополнительные занятия и нам открывали самый маленький класс, и мы там доделывали лепку, и нас было 4 девочки и 2-3 мальчика.
Потом, уже закончив художку, я встречалась с Владимиром Ивановичем, чтобы взять у него интервью и написать о нем статью — преданное признание в любви от нас всех — его учеников… (Помню, как меня в самое сердце уколол вид его новых воспитанников — и то, что теперь он им отдает свое время и внимания, и с какой ненавистью я смотрела на этих детей, искренне казавшихся мне собранием глупых бездарных уродов…)

Я приходила в художку и на свою школьную практику, а иногда забегала и просто так, потому что на самом деле оттуда просто невозможно было уйти. Никогда.
И я так ясно помню, до сих пор чувствую это ощущение своей беззащитности, вечного теперь уже сиротства при известии о смерти нашего Владимира Ивановича, и как просто перехватило дыхание и нормально дышать уже больше никогда с тех пор не получилось, никогда…
Как захлестывало беспощадно еще и еще осознание этой потери, как однажды вечером я ехала с работы на работу в питерском метро, смотрела на плохой рисунок, победивший на конкурсе детских работ и про себя думала — ну вот в чем же он плохой? Как можно объяснить это без эпитетов и эмоций, объективно и строго как делал всегда наш Владимир Иванович? И поняла вдруг, что если я сейчас не вспомню его объяснений, не найду верных слов, то никто уже мне больше не подскажет, не улыбнется задорно и хитро, и я не передам никому, оборву варварски и тупо ниточку нашей с ним связи, потеряю то понимание, которому он нас учил, провалю самый важный экзамен и пущу прахом усилия очень родного, уважаемого и близкого человека…
И тогда меня накрыла волна такой жуткой сумасшедшей паники и одиночества, просто придавила к месту…
Я потом поняла в чем дело, и нашла как объяснить недостатки той плохой работы, но вот это ощущение беспомощности, одиночества и ужаса, что вот теперь никто кроме тебя, ты один, учителя больше нет, а ты еще не успел научиться, ты уже все забыл, ты не можешь.
И все-таки иногда мне кажется, что мы все всё ещё там, хоть помещение наше давно уже занимают чужие люди, а самого любимого, самого лучшего, самого родного нашего педагога нет уже в живых…
И все равно мы на самом деле все там, сидим в два ряда на полумягких, слегка продранных стульях у огромных окон, а наш Владимир Иванович, наш Бог и учитель меряет своими длинными ногами класс, перетаскивает с места на место мольберты с работами и сосредоточено готовит просмотр. И мы, как и раньше, затаив дыхание смотрим и ждем, гадаем и надеемся… Я помню, смотрела на него и удивлялась еще, какой у нас Владимир Иванович складной и складный и похож на тонкого чуть ироничного журавля…

Итак, мое первое воспоминание — вступительный экзамен, мы рисуем натюрморт, я делаю это первый раз в жизни. Там стоит огромный такой бидон и нужно нарисовать его карандашом, а я в первый раз в жизни рисую натюрморт да и карандашом пользуюсь тоже впервые… И еще какую-то крынку пишем красками. У неё упругие, округлые бока, какого-то невообразимого коричневого цвета, и в них отражаются огромные окна…
Мама ходит под дверью и волнуется, что меня не возьмут. Мамаши на лавочке обсуждают чей ребенок дольше учился на подготовительных курсах. А я жду — когда же уже кончится вся эта экзаменационная бодяга и начнутся сами занятия, потому что я уже не представляю своей жизни без запаха новой разрезаемой бумаги, гладкости старого разрисованного акварельными пятнами дерева мольберта под рукой, и его вечного громыхающего хлопанья железных ног, неизменно застрявшего мусора карандашных опилок в скрипящей подставке, яркого света маленькой лампы выхватывающей в зимнем полумраке задумчивую гипсовую голову или невообразимый узор и легкого позвякивания кисточек, отмываемых в банке.
1 курс
Всё-таки это была фантастическая удача, какие-то добрые ангелы постарались, и я попала на курс Владимира Ивановича Болотова. К нему стремились пристроить на учебу своих детей все пермские художники, потому что лучшего специалиста, лучшего учителя, да и просто лучшего человека было трудно найти. Собственно, и мы, его ученики, на протяжении всей нашей учебы в художке, да и всю оставшуюся после жизнь — твердо знали, что у нас самый лучший педагог, и что нам с ним бесконечно повезло.
И было у нас совершенно особое чувство защищенности: мы у Владимира Ивановича, и потому у нас самые красивые постановки натюрмортов, и мы ездим с ним в самые интересные поездки (ведь это только он один организовал со своим курсом поездку на лето в Питер, волшебный город, ставший потом любовью моей жизни и новым домом).
Нам повезло вдвойне ещё и потому, что именно при нас начали организовывать волшебные пленэры — выезды на летнюю базу за городом — для рисования. И там наш Владимир Иванович таскает нас на этюды восходов, закатов, полной луны и облаков, уходящих в перспективу, деревенских домов и придорожных кустов.
Помню это ощущение защищенности — мы убеждены были и постоянно видели тому подтверждения, что он знает, видит и понимает нас — каждого в отдельности, и мы для него не учебная единица, а живые существа… А еще было приятно им гордиться, лишний раз подметить «А наш-то вот…», например, бесконечным источником гордости был тот факт, что наш Владимир Иванович никогда не пересчитывал нас по головам, и во время многочисленных наших разных поездок, — просто посмотрит внимательно и все.
А еще он всегда улыбался, вечно шутил и подшучивал. Но при этом не было никакого напряжения или обиды, а наоборот, домашнее ощущение тепла — потому что он всегда знал с кем и как можно шутить, и не было, пожалуй, ни одного ученика, которого он как-то бы задел своими шутками. Он мог шутить и над собой, и за это, пожалуй, мы уважали его еще больше.
У одного учителя в нашей художке была лысина. И он сооружал на голове невообразимую прическу и каждый час бегал к зеркалу её поправлять, выглядел же при этом удивительно растрепанно, и все равно мы знали, что у него там лысина и между собой подсмеивались над ним (в детстве замечаешь многое и совсем не имеешь снисхождения), а у нашего Владимира Ивановича тоже была лысина, но он никогда не скрывал её, а иногда даже весело прихлопывал себя по ней, или шутил насчет того как она бликует на солнце. И мы гордились им и за это тоже и любили еще сильнее.
И в то же время он был очень строг, помню, в течении многих лет для меня это было кошмаром — Владимир Иванович будет сердится. Он именно что никогда ужасно не ругался, просто становился вдруг сердитым и отстраненным, каким-то металлически серым и чужим, и страх охватывал, что можешь вот так вот вдруг навсегда потерять его расположение и тепло, и потому вечерами, вместо того что бы смотреть по телику мультики или кинокомедии, приходилось уходить в свою комнату и дорисовывать натюрморт, сочинять композицию, делать наброски. Это так затягивало, что постепенно удовольствие приносил уже просто сам процесс, сам кайф оттого что делаешь.
Самое удивительное, чему учил нас Владимир Иванович — это умение видеть, спокойно и взвешено анализировать, объясняя себе сильные и слабые стороны нарисованного. Этот универсальный ключ сохранился с нами навсегда. Помню — на первом курсе — расстановка мольбертов на просмотре — по мере возрастания качества и выполнения поставленных задач — была для меня всегда чистая лотерея и я никогда не знала, где окажется моя работа, и вечно она оказывалась в самом конце. А Владимир Иванович ходил, объяснял, рассказывал, маленьким вырезанным квадратиком на белом листе бумаге показывал нам ошибки в работе, убирал квадратик, потом снова подносил его к удачному или не получившемуся, ошибочному месту в рисунке. Добиваясь того, чтобы мы тоже заметили. И вдруг неверный штрих, удавшийся блик словно выныривали из общей массы картины, прошитые острым учительским взглядом, они постепенно как будто становились выпуклыми, и ты мог обнаружить их в общей работе уже без волшебной рамочки белой бумаги. Иногда такие просмотры-объяснения длились большую часть времени от урока.
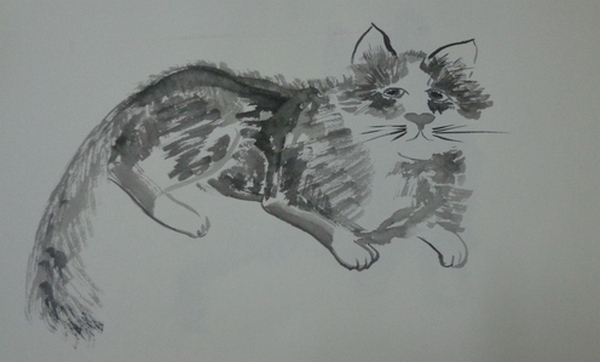
На самом деле, это уникальное, удивительное свойство, оно безумно редко встречается у преподавателей рисования, им не владели даже учителя питерской Академии, и студенты соседи по общежитию иногда приходили ко мне с просьбой объяснить, почему завалили их работу или с новыми рисунками и с надеждой, что я им укажу их ошибки и недостатки, и я вспоминала тогда школу Владимира Ивановича с благодарностью и любовью и рассказывала им с увлечением, показывала, объясняла. А они удивлялись – откуда я знаю, и как это так могу понятно объяснить, а я улыбалась, и чувствовала, что, в общем-то, я-то ничего не знаю по сравнению с нашим Владимиром Ивановичем, вот он уж им бы разъяснил…
Потому что уже ко второму курсу, особенно после пленера, у меня как будто что-то щелкнуло, что-то сдвинулось в глазу, и я стала видеть, вдруг начала сама потихоньку понимать, какой рисунок хорош, и что в нем удалось, а где слабое место и что можно было бы исправить и подтянуть. Получилось, что часы наших просмотров, когда Владимир Иванович на каждой конкретной работе объяснял что, и, главное, почему, за счёт чего именно удалось, в чем недостаток — все это не прошло впустую не пропало даром, мы действительно потихоньку учились видеть…
А ещё помню его объяснения перед уроком, — как он рисовал нам простые схемы неправильных композиций, углём на каком-нибудь большом листе бумаги, показывал работы других учеников, которые были до нас (учились в этих же стенах, а теперь разбрелись-разлетелись по свету, даже в недосягаемо прекрасном Мухинском училище учатся), и приносил репродукции других художников, и так заводил своими объяснениями, что хотелось уже все бросить и поскорее начать рисовать.
А еще как я училась точить карандаши, мне так безумно нравилось делать это самой, Господи, сколько же карандашей я извела впустую! А Владимир Иванович посмеивался надо мной, мол, тебе бы на лесопилке хорошо работать, надо свою будет открывать…
А когда наступила зима, и за окнами бушевал ветер и снег, залепляя стекла домов и глаза идущих, мы однажды пришли на урок, и оказалось, что рисовать мы сегодня не будем, а будем оформлять работы к просмотру. И мы превращали мольберты в столы, расставляя их особенным образом, и с веселым хрустом разрезали большие листы ватманской бумаги, и Владимир Иванович учил нас увлекательному и волшебному искусству делания паспарту.
Мб само по себе это и не очень интересное занятие, но когда учил Владимир Иванович все становилось захватывающим, и шорох плотного ватмана, и сложные вычисления на сколько сантиметров от края работы надо отойти и где сделать надрез… И вот привычные и простенькие, не всегда умелые и немножко неказистые работы становились вдруг по взрослому сдержанными и даже какими-то чужими, надевая белое облачение ватманских рамок…
А потом наш Владимир Иванович развешивал их на высоких стенах, к самому потолку подвязывая нитки за которые как за хвост воздушного змея держались наши практически неузнаваемые теперь работы… И снег за окнами, такой же белый как ватман наших рамочек, и запах свежей бумаги и клея, и длинные полоски картин в полностью изменившихся классах — всё настраивало на серьёзный, сосредоточенный и какой-то торжественный лад.
И собирались толпой посуровевшие и тоже серьезные преподаватели, и самый строгий из них — наш Владимир Иванович, и потом было родительское собрание, некоторые картины помечались горделивой буквой Ф — её упертые в бока руки напоминали чем-то нашего Владимира Ивановича, эта буква была таким маленьким стражем на пороге вечности, выдавая счастливчикам входные билетики — работы, помеченные ею забирали в фонд как образец для будущих поколений, а остальные можно было уносить домой на радость родителей. И надвигался уже новый год, праздники и каникулы.
А еще, тоже зимой первого курса помню удивительное ощущение свободы и полета, это на уроках композиции Владимир Иванович учит нас рисовать музыку. Кажется, был такой конкурс — рисунки к «Щелкунчику» Чайковского, это оказалось распахнутым вдруг окном, исчезновением границ, и мы слушали на уроке музыку и рисовали под неё, и сиреневый снег заметал синие еле заметные очертания старых башен, замков, развалин. И в упругих звуках слышишь и плеск воды и звуки шагов, и радостные песни и печаль… Два мира — звуков и красок встретились и уже никак не хотят расстаться друг с другом.
А еще наш Владимир Иванович — непримиримый борец с жвачками. Казалось, ничто на свете не может сильнее вывести его из себя, пожалуй, только рисование с телевизора. В глазах его начинало прыгать холодное бешенство, и только сумасшедший продолжал бы еще упорствовать… Надо заметить, правда, как только жвачки оказывались в мусорном ведре — мир и равновесие немедленно восстанавливались, враг оказывался поверженным, а мы — спасенное войско — весело брели дальше…
Помню, еще так же непримиримо и бескомпромиссно учил нас Владимир Иванович защищаться — в своей обычной школе никогда и ни за что не соглашаться оформлять всякие стенгазеты и плакаты, не позволяя утилитарно использовать наши занятия и нас самих, валить при случае все на него и на нашу художественную школу, говоря, что нам там не разрешают, не велят. Мы не должны, не можем заниматься оформительством, художка для другого, мы другому учимся рисовать… Вообще такая вот борьба с прикладным потребительским и приземленным рассмотрением наших занятий, серым пролетарским и пошлым…
Мы рисуем простые вещи: кувшин, железную кружку, луковицу, господи, как это оказывается безумно трудно, драпировки, будь они неладны со своими бесконечными складками и мягкой плавностью линий — как передать простую форму, как сделать, чтобы твой кувшин был твердым и не в коем случае не волосатым и пупырчатым, да, рисунок карандашом это тихий ужас и кошмар всего моего первого курса.
Рисуем геометрические фигуры: шар, конус, яблоко, а ещё свет на них. Владимир Иванович то гасит, то включает рядом с постановкой натюрморта сильную лампу, и вдруг начинаешь видеть полутени на предмете, блики, облегающие его форму, и бархатный провал темноты, лежащей вокруг. Эти божественные изменения формы, когда рядом включается яркий свет, приключения тени, путешествия её по форме объекта, отблески и влияния, рефлексы и блики, вечная мудрая взаимосвязь всего сущего в мире, стоит поменять тряпочку на заднем плане как неузнаваемо меняется и выпуклый серьёзный кувшин на переднем — все влияет на все — нет ни одного предмета в мире который был бы одинок, свободен от окружающей среды и в то же время и сам бы не влиял бы на неё. В одном единственном яблоке есть и стол, и далекие вечереющие уже по-зимнему окна, и кувшин рядом, и яркая лампа и деревянный крашеный пол…

А еще если хочешь увидеть предмет — не смотри на него в упор. Всегда смотри рядом… Лобовое зрение часто обманчиво… Как часто потом меня выручали эти открытия и в самой обычной жизни.
С удивлением осваивала я и маленькие хитрости увлекательного ремесла: не надо тупо прорисовывать все — от излишнего старания умирает картина, дальний план может потонуть в полутонах, боковые линии предмета или то что в тени вообще могут быть оставлены первыми наметочными штрихами, невозможно объять необъятное и увидеть — прорисовать все — это и не нужно никому. В рисунке, как и в жизни, всегда приходится делать выбор — или это или то — одновременно рядом друг с другом два одинаково подробно прорисованных объекта жить не могут (разве что на картинах Глазунова…).
И самый щедрый подарок — в конце первого курса — наш летний пленер. Огромная заслуга и нашего директора, Сметанина Георгия Петровича, и нашего Владимира Ивановича. Они подарили нам целую жизнь, огромное счастье, которое осталось с нами теплым перышком солнца в душе, которое держит и помогает всегда. Наш вечно спасающий патронус. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Рисунки автора

